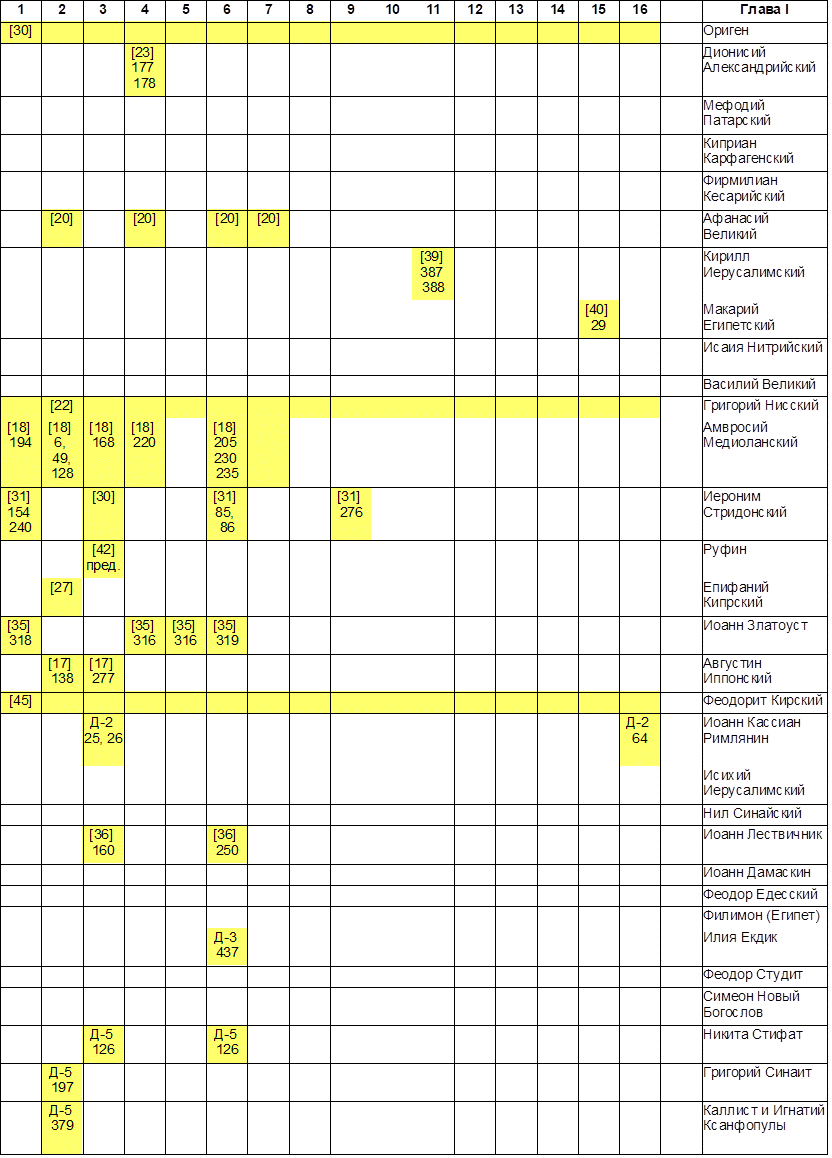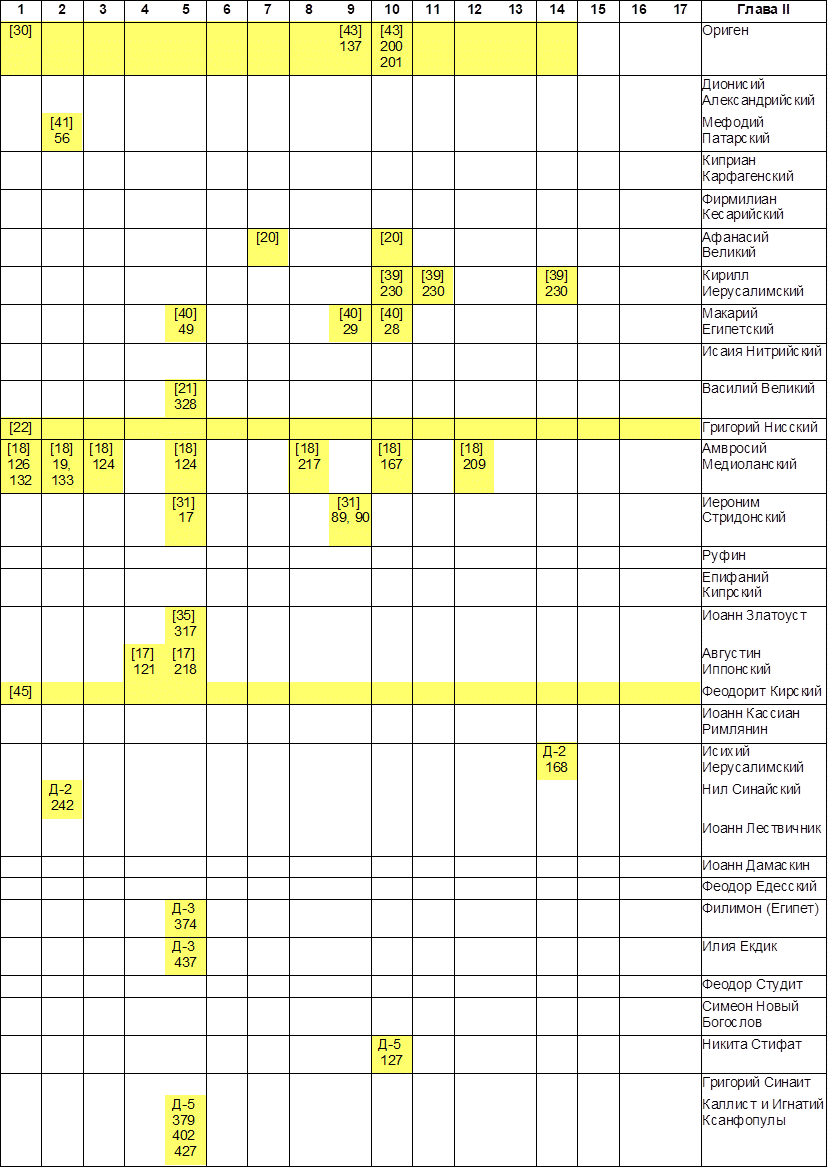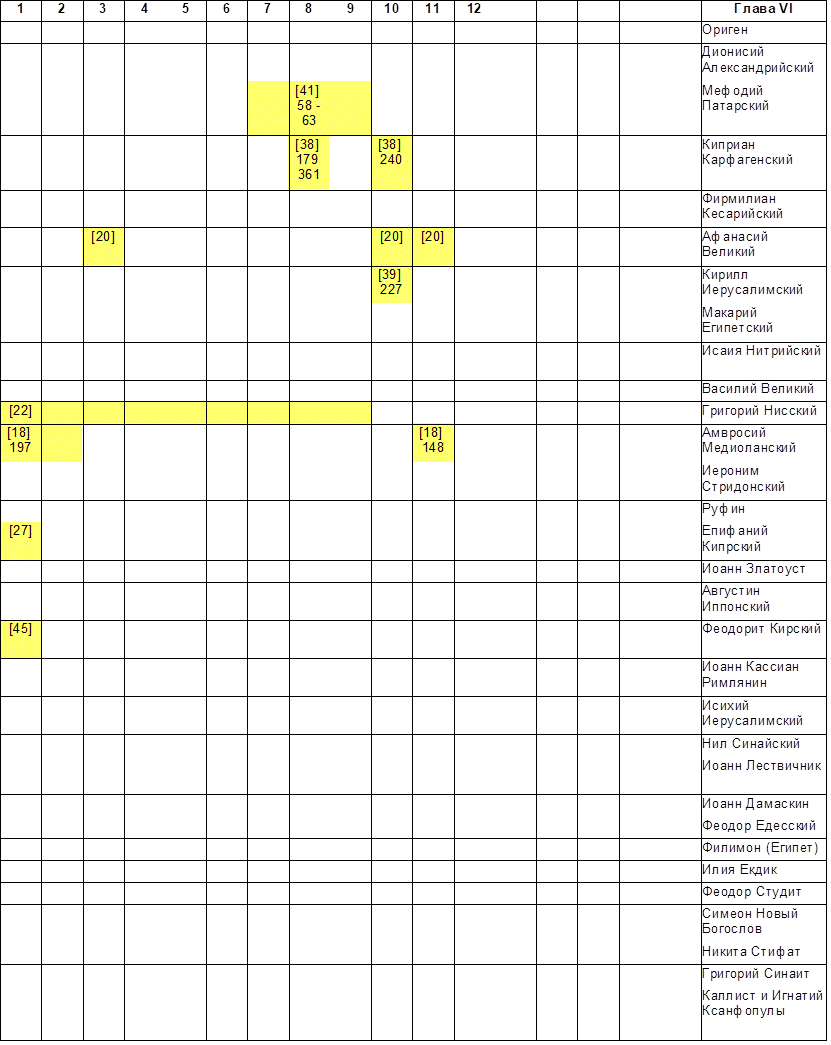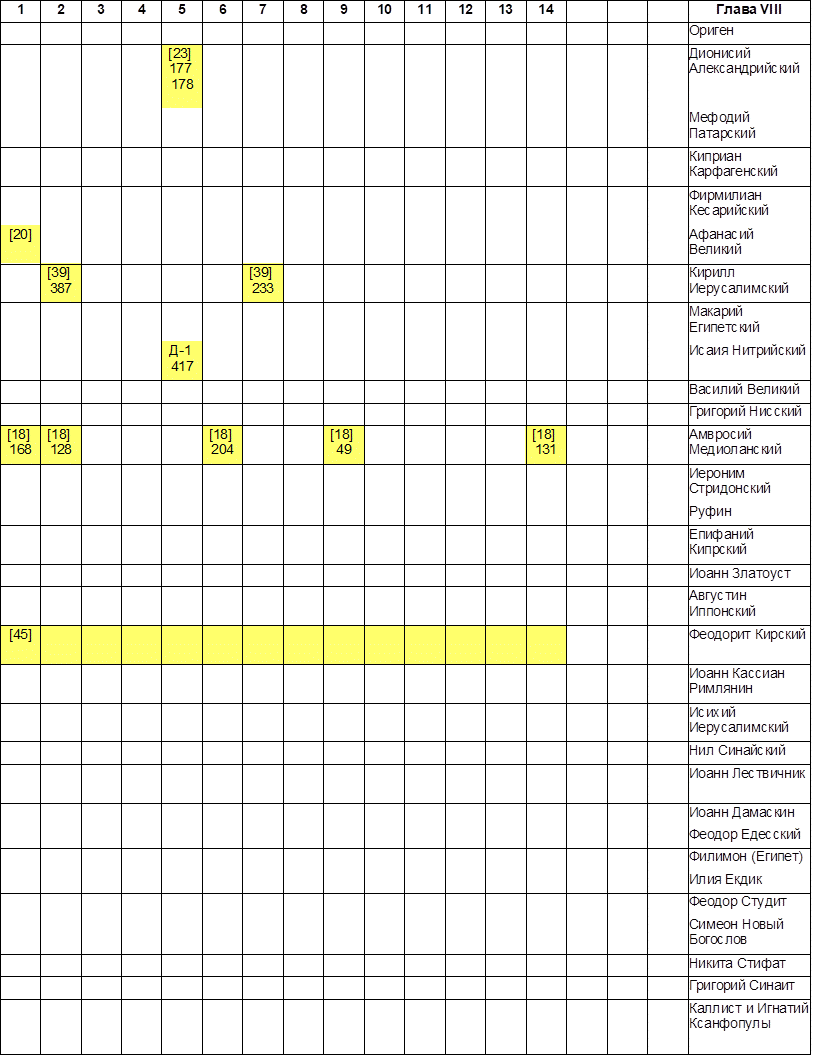Песнь песней соломона толкование православия
Толкование на книгу Песнь Песней Соломона
Блаженного Феодорита, епископa Киррского, Изъяснительные слова на книгу Песни Песней
Вступление
Суемудрый и гордый разум везде высказывает свое неверие, везде находит преткновения. Вдавшись сему толико ненадежному вождю, многие опровергают Богодухновенность книги «Песни песней». Одни говорят, что Соломон в ней писал о себе самом и дщери фараоновой. Другие представляют ее царским разговором, где под именем Невесты разумеется народ, а под именем Жениха – Государь. Какие недоказанные мнения! Если бы сие было так, то знаменитый добродетелями муж Ездра, по пленении народа Иудейского и по сгорении храма и всего в нем заключающегося восставляя чрез Духа Святого священные книги, никогда бы не поместил в число их книгу «Песни песней». Следовательно она, так как и другие Ветхого Завета, имеет творцом своим Святого Духа. Евсевий Палестинский, Ориген Египетский, Киприан Карфагенский, оба Григория, Диодор, Иоанн и другие славные благочестием и мудростью мужи, на коих всегда почти мы можем положиться, никак в этом не сомневаются.
Но какая же, скажут мне, причина победила других почесть книгу «Песни песней» небогодухновенной? Вопрос сей решить не так трудно. А думаю, они, читая ее, и видя в ней мастики, лобзания, бедра, голени, чрево, очи, стакти, нард, крины и прочее, приняли все сие чувственным образом, прилепились только к буквальному смыслу, и потому почли ее недостойною происхождения от такого Божественного начала. Но они обманулись. Им надлежало бы узнать образ изражения Священного Писания. Священное Писание, особенно в Ветхом Завете премногое изражает аллегорически, так что под положенными словами другое замыкает разумение. Таково, например, место у пророка Иезекииля в главе шестнадцатой ( Иез. 16 ) и многие другие.
Итак, положивши сие, приступим без всякого опасения к истолкованию книги Песни песней, яко Богодухновенной, приступим, призывая в помощь того же Святого Духа и вопия с блаженным Давидом: «Открой очи мои, и уразумею чудеса от Закона Твоего» ( Пс. 118:18 ).
Я думаю, истолкование сие не неполезно будет. Но может быть, оно иным покажется не выразительным, не точным. В таком случае прошу благосклонного читателя извинить недостатки мои и заменить их своей прозорливостью.
Поелику мы с Благодатью Божиею приступили к толкованию книги Песни Песней, то прежде всего объясним самую надпись её. «Песнь песней Царя Соломона». Почему Соломон не назвал книгу сию «Песнь», но «Песнь песней»? Мудрые и благочестивые мужи говорят, что в Богодухновенном Писании ничего напрасно не положено, следовательно, и сему должна быть причина.
Глава 1
Песн. 1:1 Да лобжет мя от лобзаний уст своих.
яко блага сосца твоя паче вина,
Песн. 1:2 и воня мира твоего паче всех аромат.
Миро излияное имя твое:
сего ради отроковицы возлюбиша тя.
Песн. 1:3 Привлекоша тя: вслед тебе в воню мира твоего течем.
Сие вещает Невеста, благовоние мира Твоего, то есть Божественного и спасительного Твоего учения ощущая души юношей и мужей (ибо их разумеет под отроковицами) так сильно возлюбили тебя, что влекут тебя к самим себе, следуют за тобою, и дабы не отстать от тебя, поспешают. Это же поспешение и блаженный Павел показывает, говоря: «гоню же, аще и постигну, о немже и постижен бых от Христа Иисуса» ( Флп. 3:12 ). И паки: «Тако тецыте, да постигнете» ( 1Кор. 9:24 ). Итак души, стяжавшие благоразумие мужское, гнушающиеся сладострастной жизнью, предпочитающие труд неге, текут вослед Христа, будучи влекомы благовонием мира Его. Но это говорит Невеста к Отцу Жениха и к Самому Жениху, не быв еще удостоена с ним сочетания, но когда же сподобиласть быть в чертоге и на ложе его, то как бы хвалясь гласит домашним своим:
Введе мя царь в ложницу свою
возрадуемся и возвеселимся о тебе, возлюбим сосца твоя паче вина: правость возлюби тя.
Песн. 1:4 Черна есмь аз и добра, дщери Иерусалимския, якоже селения Кидарска, якоже завесы Соломони.
Песн. 1:5 Не зрите мене, яко аз есмь очернена, яко опали мя солнце:
сынове матере моея сваряхуся о мне,
положиша мя стража в виноградех:
Препоручили мне как некие виноградные сады – Божественные заповеди, и не только возделывать, но и охранять их повелели (ср. Быт. 2:15 ), дабы какой-нибудь хищный зверь не повредил плода. Но я
винограда моего не сохраних.
Сие двоякий смысл имеет. Или не сохранила и оставила виноград тот, который должна возделывать прежде Христианской веры, что значит прежние узаконения, или виноград свой, то есть, пренебрегла назидание души своей и собственную выгоду предпочла выгоде других. И тот и другой смысл я отдаю на волю читателя, пусть сам он выберет из них вернейший. После сего Невеста, оставивши разговор с отроковицами и дщерями Иерусалимскими, обращается к Жениху –
Песн. 1:6 Возвести ми, егоже возлюби душа моя, где пасеши? где почиваеши в полудне? да не когда буду яко облагающаяся над стады другов твоих.
Песн. 1:7 Аще не увеси самую тебе, добрая в женах, изыди ты в пятах паств и паси козлища твоя у кущей пастырских.
Песн. 1:8 Конем моим в колесницех фараоновых уподобих тя, ближняя моя.
Песн. 1:9 Что украшены ланиты твоя яко горлицы, выя твоя яко монисты?
Но после тех слов Жениховых говорят Невесте служители Его:
Песн. 1:10 Подобия злата сотворим ти с пестротами сребра,
Песн. 1:11 Дондеже Царь на восклонении своем,
Потом паки Невеста вещает:
нард мой даде воню свою.
Песн. 1:12 Вязание стакти сын сестры моея 2 мне
Песн. 1:12 Посреде сосцу моею водворится,
Песн. 1:13 Грезн Кипров сын сестры моея мне в виноградех Енгаддовых.
После сих слов невесты вещает паки Жених ей:
Песн. 1:14 Се, еси добра, искренняя моя, се, еси добра: очи твои голубине.
На сие Невеста и ответствует и говорит вторично:
Песн. 1:15 Се, еси добр, сын сестры моея, и еще красен: одр наш со осенением,
Песн. 1:16 преклади дому нашего кедровии, дски нашя кипарисныя.
На Славянский язык переведено в единственном числе – мира, на Греческом положено во множественном числе – миров, и потому-то блаж. Феодорит предлагает оный вопрос. Прим. перев.
Вам может быть интересно:
Поделиться ссылкой на выделенное
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»
Часть III. Дополнительные главы к толкованию книги Песнь Песней Соломона
Глава 1. Путеводитель к святоотеческим толкованиям на книгу Песнь Песней Соломона
Путеводитель к святоотеческим толкованиям на Песнь Песней Соломона указывает по каждому стиху книги, кто из святых отцов и в каком месте своих творений толкует этот стих. Всего авторов творений – 31. Предлагаемый путеводитель полностью соответствует приведенным во второй части книги святоотеческим цитатам.
Каждый закрашенный квадратик путеводителя указывает на главу и стих Песни Песней и каким святым отцом он толкуется. В квадратике приводится библиографический номер книги с толкованием и цитируемые страницы (например, [36] 250). Поскольку пятитомный сборник «Добротолюбие» в библиографии отмечен номером [25], то в путеводителе указывается буква «Д», номер тома и цитируемая страница (например, Д-5, 127).
В таблице «Песнь Песней в Добротолюбии» указаны главы и стихи из «Песнь Песней», которые толкуются святыми отцами в «Добротолюбии».
Песнь Песней в Добротолюбии
| Святые отцы | Том, страница | Глава и стих в книге Песнь Песней |
| Исаия Нитрийский | I, 417 I, 435 | 8:5 |
| Иоанн Кассиан Римлянин | II, 25 II, 26 II, 64 | 1;3 1:3 1:16 |
| Исихий Иерусалимский | II, 168 | 2:15 |
| Нил Синайский | II, 242 | 2:2 |
| Феодор Эдесский | III, 326 | 4:12 |
| Филимон (Египет) | III, 374 | 2:5 |
| Илия Екдик | III, 429 III, 437 III, 438 | 4:10–11 2:5; 5:8; 5:3; 1:6 3:1–2 |
| Феодор Студит | IV, 421 IV, 568 | 5:16 4:7 |
| Никита Стифат | V, 126 V, 127 | 1:3.6 2:10–14 |
| Григорий Синаит | V, 197 | 1:2 |
| Каллист и Игнатий Ксанфопулы | V, 369 V, 379 V, 402 | 5:2 1:2; 2:5 2:5 |
| Каллист | V, 427 | 2:5 |
Глава 2. Русский текст книги Песнь Песней епископа Порфирия (Успенского)
Образец перевода священных книг Ветхого Завета с греческого перевода 72 толковников.
Песнь Песней, что Соломону
Указания собеседующих лиц, с разделением всей Песни на 4 части под буквами А.В.Г.Д., заимствован епископом Порфирием из знаменитой рукописной Библии синайской. Такой перечет, не означенный в греческом переводе Песни Песней 72 толковниками, сделан такими глубокими знатоками Писания, каковы были знаменитые учителя александрийской огласительной школы, именно Пантен, Климент, Ориген, Пиерий, св. Макарий Александрийский, как нельзя лучше уясняет буквальный смысл Песни Песней.
Глава 3. Русский текст книги Песнь Песней архимандрита Макария (Глухарева)
Перевод с еврейского на русский.
Указания говорящих лиц даны переводчиком.
Глава 4. Текстологические заметки к древним текстам и различным переводам книги Песнь Песней 82 [82]
Название книги в славянском, синодальном переводах дается без точного соответствия греческому тексту («Книга Песнь Песней царя Соломона» – слав., «Книга Песни Песней Соломона» – син.). Греческое название, Ἆισμα ᾀσμάτων, ὅ ἐστιν τῷ Σαλωμων означает «Песнь Песней, что Соломону» (так по Порфирию). Кроме этого названия, составляющего в LXX первый стих, в ватиканском кодексе надпись: ΑΣΜΑ, а в александрийском Ἄσμα ᾀσμάτων.
Славянский и синодальный переводы выносят первый стих в название, поэтому в 1-й главе там 16 стихов вместо 17, как во всех других списках. Порфирий и Юнгеров дают нумерацию стихов, соответствующую греческой. Дальше у нас нумерация по LXX-Порфирию.
1:4 LXX: εὐθύτης ἠγάπησέν σε – правота (правда) возлюбила тебя
Толковая Библия
Толкование на Песнь Песней Соломона
В еврейской Библии книга Песнь Песней помещается в третьей части священных ветхозаветных книг – среди так называемых агиографов (евр. кетубим ), и следует непосредственно после трех великих агиографов, – книг Псалмов, Притчей и Иова, – и пред книгою Руфь. В греческой Библии, в латинской Вульгате и в славянской и русской Библии книга Песнь Песней занимает место в ряду учительных книг после двух других произведений Соломона – книг Притчей и Екклезиаста (пред неканоническими учительными же книгами – Премудрости Соломона – и Премудрости Иисуса, сына Сирахова).
В Христианской Церкви этот возвышенный взгляд еврейской синагоги на книгу Песнь Песней впервые ясно выражен Оригеном, который вместе с тем расширил и углубил еврейское толкование, придав ему христианский смысл. Как любитель таинственного, Ориген с особенною любовью остановился на том широком поприще таинственного, какое представляла Песнь Песней, и написал на нее десять книг толкований, содержавших, по счету блаж. Иеронима, до двадцати тысяч строк и настолько возвышенных и глубоких по содержанию, что в них Ориген, по выражению блаж. Иеронима, превзошел самого себя. Но сохранились до нас лишь два другие трактата Оригена на Песнь Песней, переведенные блаж. Иеронимом на латинский язык и, по его замечанию, более удобопонятные для питающихся еще млеком младенцев (Русский перев. Творен. блаж. Иеронима, часть 6, изд. 2-е, 1906 г. Киев, с. 136–174). Возвышенный взгляд Оригена на книгу Песнь Песней выражен им в самом начале первого из этих трактатов. «Как мы, – говорит он здесь, – узнали через Моисея, что есть не только Святое, но и Святое Святых, и что есть не только суббота, но и суббота суббот; так ныне мы узнаем через Соломона, что существуют не только песни, но и Песнь Песней. Блажен, конечно, тот, кто входит во святое, но еще блаженнее тот, кто входит во Святое Святых. Блажен празднующий субботу, но еще блаженнее празднующий субботу суббот. Блажен, подобным образом, и тот, кто понимает и поет песни, на гораздо блаженнее тот, кто поет Песнь Песней. И как входящий во святое нуждается еще во многом, чтобы быть достойным войти во Святое Святых, и как празднующий субботу, которая от Господа установлена для народа, имеет нужду еще во многом, чтобы праздновать субботу суббот; подобным образом с трудом обретается такой, кто, прошедши все песни, содержащиеся в Писании, был бы в состоянии возвыситься до Песни Песней» (с. 138). Вместе с Иудейскою синагогою Ориген устанавливает аллегорическое понимание книги говоря, напр.: «Если бы это (о лобзаниях Песн 1.1 ) не имело духовного смысла, то не было ли бы пустым рассказом? Если бы не имело в себе чего-либо таинственного, то не было ли бы недостойно Бога?» (с. 141–142). Однако, принимая от синагоги, частнее от таргума общую мысль аллегорического понимания книги Песнь Песней, Ориген изменяет эту мысль настолько, насколько речь иудея должна была измениться в устах христианина, именно на место неопределенного таргумического Мессии он поставляет Господа Иисуса Христа, вместо Израиля – общество христиан или Церковь, иначе христианскую душу: так, при объяснении I гл. 1 ст. Ориген замечает, что под упомянутым здесь лобзанием недостаточно разуметь вещания Моисея и пророков, как объясняет таргум, а нужно искать лобзаний Христовых (ср. также его объяснение ст. 2).
Общая мысль толкования Оригена усвоена была и всеми известными отцами и учителями Церкви – св. Григорием Нисским, Кириллом Иерусалимским, Епифанием Кипрским, Макарием Египетским, Афанасием Александрийским, блаж. Феодоритом и др. В раскрытии этого толкования некоторые учители церковные высказали свои особые мнения. Так, блаженный Августин, согласно с иудейскою синагогою, видел в содержании Песни Песней, аллегорическое изображение истории древних евреев («О граде Божием» кн. XVII, 8, 13, 20, Русск. перев. Твор. блаж. Август, ч. 5-я, изд. 2-e, 1907 г. Киев). Св. Амвросий Медиоланский, напротив, дал совершенно независимое от преданий синагоги христианское аллегорическое толкование Песни Песней: по его мнению (в его Serrno de virginitate perpetua S. Mariae), Суламита Песни Песней есть аллегорический образ Богоматери. Взгляд этот многократно выражает католическая Церковь в своих богослужебных чинах: употребляя Песнь Песней при богослужении, она обычно приурочивает чтения из нее к Богородичным праздникам (напр., в Рождество Богородицы, Благовещение и Успение читается первая глава Песни Песней). В богослужении Православной Церкви чтения из книги Песнь Песней не употребляются, но в канонах и вообще в службах в честь Богоматери Ей весьма нередко усвояются выражения из этой книги («запечатленный источник», «заключенный вертоград», «вся добра еси и порока несть в тебе» и др.). Но общим и определенно выраженным православно-церковным толкованием книги Песнь Песней является изъяснение отношений Возлюбленного или Жениха и Возлюбленной или Невесты книги в смысле благодатного таинства союза Христа-Бога и человечества-церкви, причем, по церковному разумению, Песнь Песней есть наивысшее из всех ветхозаветных пророчеств о Мессии, даже как бы не пророчество, а историческое изображение Христа воплотившегося, вочеловечившегося и совершающего дело спасения человечества. В «Синопсисе» или Обозрении священных книг св. Афанасия Великого о книге Песнь Песней читаем: «Все в ней от начала до конца написано таинственно, с загадочным иносказанием, и смысл догматов, в ней заключающихся, содержится не в букве, но глубоко скрыт под нею… Посему читать сию книгу могут только разумные; но должны и они, читая ее, всегда иметь в мысли иносказание, дабы невежеством неученых не подверглось посмеянию то, что в ней излагается. Песнию Песней называется она потому, что следует после других песней, и что после сей песни нельзя ожидать другой песни… Все Божественное Писание пророчествует о сошествии к нам Слова и явлении Его в плоти. Это составляет особый предмет воли Божией, и предвозвещение о том было преимущественным делом пророков и всего Божественного Писания… Все сии пророчества суть песни, а Песнь Песней как бы уже не пророчествует или предсказывает, но показывает Того, о Котором другие предвозвещали, как бы уже пришедшим и принявшим плоть человеческую. Посему Песнь Песней воспевает как бы брачную песнь на бракосочетание Слова с плотию. И другие Писания хотя говорят также о Спасителе, но между прочим возвещают и нечто другое, а сия книга воспевает один союз Слова с плотию. В других Писаниях, как содержащих нечто другое, кроме учения о Слове, находятся выражения гнева, ярости и прещения страхом, а сия книга, так воспевающая одно только пришествие Слова, вещает только о приятности, радости и веселии, ибо, в присутствии жениха, должно всем радоваться и никому не прилично плакать, как Сам Господь сказал ( Мф 9.15 ). Посему, как после домостроительства, совершенного, Спасителем, мы уже не ожидаем пророка, так и после того, что обозначено в Песни Песней, не должно ожидать другого чего-нибудь, новейшее нечто знаменующее. Подобно тому как закон и пророки престали после того, как Иоанн Креститель указал Агнца Божия, так и воспетое в Песни Песней есть конец всего того, что возвещается во всем Божественном Писании… Как в законе было святое, и за святым – Святое Святых, а за Святым Святых уже не было внутреннейшего места, так после песней еще есть Песнь Песней, а после Песни Песней уже не должно ожидать внутреннейшего и новейшего обетования: ибо Слово однажды «сделалось плотию и совершило дело…» (Христ. Чтен. 1841, ч. 4, с. 370–374).
Правда, общий концерт аллегорических толкований – и в синагоге иудейской и уже в древней Христианской Церкви прерывался иногда диссонансом отдельных голосов, пытавшихся понимать и изъяснять содержание Песни Песней в прямом, буквальном смысле, но это были именно единичные мнения людей, так или иначе порвавших связь с общим преданием – синагогальным и христианско-церковным, и синагога и церковь встречали их полным осуждением. Не упоминая разных попыток этого рода в иудействе (принадлежавших большею частию анонимам), из христианских буквалистов назовем Феодора епископа Мопсуетского, (V в.), осужденного за буквальное толкование Песни Песней пятым Вселенским Собором. При буквальном понимании, Суламиту книги Песнь Песней отожествляли или с Ависагою Сунамитянкой ( 3Цар 1:1–4, 2.17–22 ) или с дочерью Фараона, женою Соломона ( 3Цар 3.1 ), или же с какой-либо другой невестой или наложницею Соломона. В новое время многочисленными сторонниками буквального понимания книги среди немецких библиологов, особенно известным библеистом Евальдом, развита была новая теория, по которой в Песни Песней воспевается непоколебимость чистой пламенной любви и торжество ее против всех обольщений почести и богатства; предмет любви Суламитянки здесь не Соломон, а простой пастух, ее соотечественник, с которым она временно была разлучена, взятая во дворец Соломона, но здесь она, несмотря на все ласки и обещания, осталась верною своему возлюбленному и наконец была отпущена к нему и соединилась с ним браком. Что эта гипотеза не имеет опоры в тексте Песнь (именно в указываемых ее сторонниками местах: Песн. 1:3, 11, 6:11–12, 8:10 ) и вообще беспочвенна, это ясно.
Средину между аллегорическим и буквальным толкованиями занимает толкование типическое, развитое отчасти Гуго Гроцием и Боссюэтом, а главным образом Гофманом и Деличем и у нас Коссовичем, по которому, изображаемая в Песни Песней любовь есть действительный факт из истории Соломона, но изображение этой любви не имеет цели само в себе, а служит образцом высшей духовной любви и отношений человека к Богу. При таком понимании, по мнению Делича, Песнь Песней является высокоценным священным произведением в трех отношениях: 1) в религиозно-нравственном, как изображение высокой идеи брака, 2) в церковно-историческом – как изображение судьбы еврейского народа и церкви во время Соломона и 3) наконец, в прообразовательном, поскольку в браке прообразует союз Христа с церковью. Вызванное стремлением примирить крайности двух первых толкований, типическое понимание имеет свое значение при изъяснении таинственной книги Песнь Песней. Но полное проникновение в содержание и первоначальное значение ее по идее священного ее писателя составляет трудность едва ли преодолимую. Взгляд на это иудейской синагоги хорошо выразил иудейский комментатор X века Саадия: «знай, брат мой, что есть различные объяснения этой книги, и это не могло быть иначе, потому что Песнь Песней подобна замку, от которого ключ потерян; одни утверждают, что она относится к царству израильскому, другие – к закону, третьи – ко временам плена, четвертые – к Мессии». Потому-то, по свидетельству Оригена и Иеронима, у евреев запрещено было читать эту книгу (равно как начало книги Бытия и начало и конец книги пророка Иезекииля) ранее тридцатилетнего возраста. Что подобная же предосторожность обязательна и в Христианской Церкви, мы видели из слов св. Афанасия Великого.
Впрочем, предпочитая аллегорический способ изъяснения книги Песнь Песней, как принятый св. церковью, всякому другому, мы однако должны избегать тех крайностей беспочвенного и отрешенного от действительного содержания книги аллегоризма, присутствие которого весьма очевидно в трудах многих ортодоксальных немецких библеистов (Гана, Генгстенберга, Шефера и др.). Аллегория должна быть лишь принципом изъяснения книги, отнюдь не вытесняя данного в книге содержания, а лишь регулируя обозрение последнего и освещая его высшим светом. Непременный долг толкователя при этом состоит в том, чтобы возможно точно устанавливать те посредствующие представления, которыми буквальное содержание книги связывается с высшими идеями аллегории, которая во всяком случае должна опираться на данные содержания самой книги, а не заимствовать свой материал независимо от книги, извне ее. Такое значение и такое применение аллегорического принципа в изъяснении книги Песнь Песней, по-видимому, намечается в «Синопсисе» св. Афанасия. «Вся сия книга, говорит он, наполнена разговорами ветхозаветной Церкви со Словом, всего рода человеческого с Словом, и церкви из язычников с Ним же, и опять – Слова с нею и с родом человеческим. Потом разговор язычников с Иерусалимом и Иерусалима – о церкви языческой и о самом себе. Далее, воззвание служащих Ангелов к призванным в веру людям… Приспособляясь к таковым разговорам в Песни Песней, может каждый, рассматривая самую книгу, сочетавать по смыслу сходные между собою происшествия» (Хр. Чтен. 1841 г., ч. 4, с. 379–380).
В своем воззрении, что Песнь Песней написана in modum dramatis, Ориген в христианской древности не был одинок: его точку зрения на этот предмет разделяли не только другие учители Александрийской учительной школы, но она приведена даже в Синайском списке перевода LXX, где имеются разделения книги Песнь Песней на четыре акта, равно как и надписания над меньшими отделами с указанием, кому принадлежит та или другая речь (подобные деления и надписания сохранились и в эфиопском переводе Песни Песней, сделанном с текста LXX). Однако все эти древние учители церковные не имели той мысли, будто Песнь Песней написана для сцены или даже действительно когда-либо ставилась на ней. Между тем в новое время (в XIX веке) целый ряд западных ученых в своих трудах о Песни Песней развивали именно эту мысль об ее сценическом назначении и о фактической постановке на театральных подмостках (Евальд, Фюрст, Нёльдеке, Беттхер, Ренан, Кемпф и др.). Но, в действительности, библейские евреи, как и семиты вообще, вовсе не имели ни драмы, ни театра, напротив, всегда чувствовали к первой и последнему органическое отвращение. И ни одному библейскому критику, стороннику теории драмы, не удалось доказать присутствие в Песни Песней всех драматических элементов, драматически выдержанного диалога, действия, места сцены, однообразного деления пьесы на акты и явления, разделения ролей. Упомянутые же древние разделения – у Оригена, в синайском кодексе и в эфиопском переводе, без сомнения, не имели ничего общего с якобы сценическим назначением книги, а указывали, вероятно, на гомилетическое или экзегетическое употребление книги (отделы наподобие наших церковных зачал).
Но если в книге Песнь Песней нет настоящего драматического действия, то есть в ней полное и живое, органическое единство основной идеи, развивающейся на всем ее протяжении: защитить это единство книги думали, между прочим, сторонники теории драмы против сторонников фрагментальной теории, по которой Песнь представляет ряд бессвязных отрывков или фрагментов песенного характера. Единство и цельность книги бесспорно доказывается следующими данными:
1) Единством действующих в песни лиц: не только главные лица – Жених и Невеста, Соломон и Суламита, но и второстепенные лица, дочери Иерусалима, являются во всех частях книги с одними и теми же характерами, стремлениями и задачами и в одинаковой обстановке. Напр., имя Соломона или «царя» (т. е. тоже Соломона) проходит через всю книгу ( Песн 1:3–4, 11, 3:7, 9, 11, 8:11–12 ); равным образом – «дщери Иерусалимские» ( Песн. 1:4, 2:7, 3:5, 5:8, 16, 8:4 ); упоминается неоднократно о матери Суламиты, но не об отце ее ( Песн. 1:5, 3:4, 8:2 ).
2) Единством литературных приемов писателя во всех частях книги. Свящ. писатель раз выработал свои особенные выражения и рассеял их по всем частям книги; многие выражения не раз повторяются в разных отделах с буквальною почти точностью. Таковы, напр., эпитеты: «прекраснейшая из женщин», – «тот, кого любит душа моя»; или – три раза повторяемое заклятие к иерусалимским женщинам не будить любовь ( Песн. 2:7, 3:5, 8:4 ), или – троекратный вопрос: «кто эта» ( Песн. 3:6, 6:10, 8:5 ) и др.
Таким образом, если Песнь Песней посвящена описанию природы, то привнесение в это описание человеческого образа девы-евреянки будет вполне понятно, гораздо более в духе древнееврейского мировоззрения, чем обратное привнесение картин природы в поэтическое изображение человеческой (женской) красоты. (с. 348). Группируя, затем, все соединенные в книге Песнь Песней штрихи и картины природы (флора, фауна, неорганическое царство, продукты народного продовольствия, смены явлений дня и ночи, времен года и т. д.), а также штрихи, изображающие местную человеческую культуру (сторожевые и военные башни, арсеналы, города с их разнообразными принадлежностями), проф. Олесницкий приходит к заключению, что свящ. писатель Песни Песней имел изобразить собственно Палестину, именно подобным же образом изображаемую во Второзаконии ( Втор. 6:10–11, 8:7–10, 11:9–12 ) и у пророков. Соответственно с этим и жених Песни Песней (по изображению Песн 5.10–16 ), должен принадлежать видимой природе, по крайней мере, открываться в явлениях видимой природы. Но в то время как картины и штрихи, изображающее невесту, вполне тяготеют к низменной земной природе, штрихи, собранные в образ жениха, хотя соприкасаются с землею, но сами принадлежат высшей эфирной области света… По мере того как мы всматриваемся в эти залитые светом картины, человеческий образ жениха все более тускнеет и наконец превращается в светозарный образ солнца (с. 353). Как именно палестинская природа, невеста Песнь Песней стремится к своему палестинскому солнцу (с. 358). Но как невеста есть не только палестинская земля, но и населяющий ее еврейский народ, так и жених есть не только благодетельная для земли физическая сила – солнце, но и сила политическая – царь, у пророка ( Иер 15.9 ) поэтически называемый солнцем; частнее, царь Соломон. Но высшею, благодеявшею земле Палестинской и Израилю, силою была сила Божественная, которой были обязаны своим бытием и действием и физическая сила солнца и политическая – царя. В солнце и лазури возвышающийся над землею царь Соломон, как благодетельный гений страны, сам собою вызывал в мысли поэта образ прославленного Мессии, имеющего явиться в облаках славы и завершить все высшие премирные благодеяния народу (с. 362).
Таково объяснение проф. Олесницкого, подсказанное ему, по словам его, евреем Тайяром и им самим лишь развитое. Как и всякая человеческая теория, оно не исключает возражений против себя, но, по нашему убеждению, оно основано на глубоком понимании восточного, частнее, библейско-еврейского миросозерцания, на глубоком проникновении в дух и смысл библейских образов священных писателей, и во всяком случае, указывает надежный путь, по которому следует вести исследование и изъяснение книги Песнь Песней.
Как в еврейском, так и в греческом тексте надписание книги составляет первый стих первой главы ее; в Вульгате же, как и в нашей славянской и русской Библии, надписание стоит особо и не входит в состав первой главы.
По раввино-талмудической терминологии термин «осквернять руки» в отношении священных Книг означал каноническое их достоинство. О происхождении и значении этого странного термина можно читать у проф. А. А. Олесницкого в его «Песнь Песней и ее новейшие критики» Киев 1882, с. 14.
Ed Konig Einleitung in das Alte Testament mit Einschluss der Apocryphen und der Pseudepigraphen Alten Testaments. Bonn 1893, s. 422 ff. Иначе и ближе к истине судит о времени происхождения книги Песнь Песней другой немецкий ученый Густав Карпелес. Сопоставляя «Песнь Песней» с известною похвалой добродетельной жене в книге Притчей гл. XXXI, Г. Карпелес говорит «Нельзя предположить, что этот гимн в хвалу добродетельной жены, и «Песнь Песней» могли возникнуть в одно и то же время. В гимне, как и во всех сентенциях «Книги Притчей» касательно женщин и любви, преобладает вполне этический характер, в «Песни Песней» – эстетический: в первом – настроение преимущественно нравственное, во второй – глубоко чувственное. Внешние и внутренние причины, заставляют нас принять, что гимн был включен в сборник притчей уже позже, когда господствовали более зрелые воззрения на женщину и на ее значение в общественной жизни, составление же «Песни Песней» последовало, вероятно, непосредственно после смерти Соломона, и написана она была в северной Палестине». Г. Карпелес. История еврейской литературы. Русск. перев. под. ред. А. Я. Гаркави. Том I. СПБ. 1896, с. 78. Но что вынуждает исследователя считать «Песнь Песней» написанною лишь «непосредственно после смерти Соломона», а не при его жизни его и не им самим? Серьезных оснований к тому не существует
Вам может быть интересно:
Поделиться ссылкой на выделенное
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»