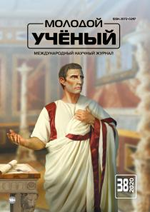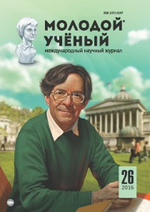Проблемы толкования статьи ук рф
Толкование уголовного закона на примере статьи 197 Уголовного кодекса Российской Федерации
Дата публикации: 21.09.2020 2020-09-21
Статья просмотрена: 43 раза
Библиографическое описание:
Романова, Е. Д. Толкование уголовного закона на примере статьи 197 Уголовного кодекса Российской Федерации / Е. Д. Романова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 38 (328). — С. 139-142. — URL: https://moluch.ru/archive/328/73716/ (дата обращения: 24.05.2021).
В статье рассматриваются оценочные понятия статьи 197 УК РФ: «заведомо ложное публичное объявление», «крупный ущерб», проблемы их определения, а также значимость существования. Кроме того, в данной работе рассмотрена проблема взаимодействия органов дознания и предварительного следствия с арбитражными судами, в связи с выявлением признаков состава преступления, предусмотренных в статье 197 УК РФ.
Ключевые слова: толкование уголовного закона, заведомо ложное публичное объявление, крупный ущерб, виды толкования уголовного закона.
Thе аrtiсlе соnsidеrs thе еvаluаtiоn соnсерts оf аrtiсlе 197 оf thе Сriminаl Соdе оf thе Russiаn Fеdеrаtiоn «knоwinglу fаlsе рubliс аnnоunсеmеnt», mаjоr dаmаgе, «рrоblеms оf thеir dеfinitiоn, аs wеll аs thе signifiсаnсе оf ехistеnсе. In аdditiоn, this wоrk dеаls with thе рrоblеm оf intеrасtiоn bеtwееn thе bоdiеs оf inquirу аnd рrеliminаrу invеstigаtiоn аnd thе аrbitrаtiоn соurts, in соnnесtiоn with thе idеntifiсаtiоn оf thе еlеmеnts оf thе оffеnсе рrоvidеd fоr in аrtiсlе 197 оf thе Сriminаl Соdе оf thе Russiаn Fеdеrаtiоn.
K еу w о rds: intеrрrеtаtiоn оf сriminаl lаw, knоwinglу fаlsе рubliс аnnоunсеmеnt, mаjоr dаmаgе, tуреs оf intеrрrеtаtiоn оf сriminаl lаw.
На сегодняшний день с реализацией норм уголовного закона связан ряд трудностей. В качестве причин данного явления можно выделить правовые пробелы, коллизии и недостатки юридические техники, осложняющие понимание содержание той или иной уголовно-правовой нормы. Ввиду этого, субъекты, применяющие уголовный закон, вынуждены оперативно находить способы правильного применения уголовно-правовой нормы. Одним из таких способов является толкование уголовного закона.
Толкование уголовного закона является важным элементом юридической техники. Ввиду отсутствия у правоприменителей полномочий по устранению законодательных коллизий путем внесения изменений в уголовный закон, необходимы иные способы решения существующей проблемы в целях регулирования единообразия практики в правоприменении [1, с. 19–26].
Под толкованием уголовного закона понимается деятельность различных субъектов, которая направлена на уяснение и разъяснение сути и содержания уголовно-правовых норм [2, с. 89]. Следует отметить, что в современной науке уголовного права произошло значительное расширение объёма рассматриваемой дефиниции, прежде всего это связано с включением в него новых субъектов. Кроме государственных органов, субъектами толкования могут быть общественные организации, учёные, граждане и т. д.
Существует система классификаций видов толкований, в данной работе следует обратить внимание на такое классифицирующее основание как субъекты толкования, разъясняющие уголовный закон. По субъекту толкование подразделяется на аутентичное (авторское) толкование — разъяснение уголовно-правовой нормы государственным органом, которым введена в законодательство; легальное толкование осуществляется органом, на которого возложена такая обязанность законом; судебное толкование — уголовно-правовая норма разъяснена, либо в судебных решениях, либо в Постановлениях Пленума Верховного суда Российской Федерации.
В рамках рассматриваемой проблемы представляется возможным обратить внимание на статью 197 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ). В указанной статье объективная сторона преступления выражена в заведомо ложном публичном объявлении руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности. Наступление последствий в виде крупного ущерба можно рассматривать как момент окончания преступления.
Необходимо отметить, что законодатель не раскрыл в диспозиции рассматриваемой нормы права, что конкретно нужно понимать под ложным публичным объявлением. Если руководствоваться логикой, то, как правило, публичный характер отдельно взятого объявления заключается в обращении его к неопределенному и достаточно широкому кругу лиц, например, с помощью средств массовой информации.
Таким образом, можно говорить о том, что правовые нормы УК РФ, закрепляющие ответственность за преступления в области банкротства — бланкетные, что подразумевает включение в них основных дефиниций и правовых конструкций, предусмотренных законодателем, но вызывает необходимость обращаться за раскрытием содержания данных терминов к гражданскому праву и законодательству о несостоятельности (банкротстве).
Необходимо отметить, что изучая данный вопрос А. В. Наумов верно заметил, что «нормы иных отраслей права включаются в диспозицию статей уголовного закона, и состав соответствующего преступления конструируется в этих случаях путем включения указанных норм в ткань уголовного закона. В связи с этим неуголовно-правовые нормы превращаются в «клеточку» уголовно-правовой материи [3, с. 37].
Кроме уже отмеченной оценочной категории как «заведомо ложное публичное объявление» в статье 197 УК РФ необходимо обратить внимание также на такое оценочное понятие как «крупный ущерб».
Существование оценочных категорий необходимо в целях «социализации» уголовного закона, отражения объективной действительности в уголовно-правовой норме. Уголовный закон регулирует общественные отношения, возникающие при совершении общественного опасных деяний. Оценочная категория отражает явление, которое в рамках уголовно-правовой системы не требует разъяснения исходя из правил обычного оборота языковых конструкций, однако при правоприменительной деятельности возникает необходимость в уяснении какого-либо понятия, в связи с различным правосознанием правоприминителей. Кроме того, в уголовно-правовой доктрине относительно выражения значимости существования оценочных категорий применена «теорема Гёделя» [4, с. 27–28], согласно которой какое-либо социальное явление обладает такими признаками, истинность и ложность которых невозможно доказать в рамках знаний одной уголовно-правовой системы, необходимо выйти за рамки отрасли права.
Возвращаясь к уже вышеназванной оценочной категории «заведомо ложное публичное объявление», нужно обратить внимание на то, что законодатель не только не предусмотрел в уголовном законе его дефиницию, но и после внедрения данного оценочного понятия в 1996 году законодателем и правоприменителями не предпринимались попытки толкование данного понятия. В нормативно-правовой базе существуют методические рекомендации [5], которыми предусмотрено разъяснение данного понятия, а именно под «заведомо ложным публичным объявлением» понимается совершенное в публичном месте (например, в средствах массовой информации, в арбитражном суде) сообщение (устное, письменное) о своем банкротстве, которое не соответствует действительности, так как лицо на самом деле является платежеспособным и обладает возможностью в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. Сформулированное определение не может являться толкованием, поскольку разъяснение дано Федеральной службой судебных приставов России, не являющимся государственным органом, которого законодатель уполномочил на разъяснительную деятельность уголовного закона. Кроме того, методические рекомендации официально не опубликованы, то есть принять во внимание такой акт толкования правоприминителями, не представляется возможным.
В судебной практике, а именно в приговоре Менделевского районного суда Республики Татарстан от 19.02.2018 [7], судом произведена попытка толкования данного оценочного понятия, однако как таковой дефиниции не сформулировано, понятие раскрыто судом исходя из обстоятельств дела, а именно как умышленная подача генеральным директором общества заявления о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд Республики Татарстан (то есть заведомо публичное объявление), однако ввиду того, что активы общества позволяют удовлетворить требования кредиторов в полном объеме данное объявление являлось ложным. Генеральным директором общества передавалось имущество путем совершения безвозмездных сделок с другими компаниями, что и привело общество до банкротства.
В настоящее время существует необходимость дать официальное толкование такому оценочному понятию, как «заведомо ложное публичное объявление» и закрепить изменения в статье 197 УК РФ путем добавления примечания в следующем виде:
«Примечание. Под заведомо ложным публичным объявлением понимается умышленное совершенное в гласном месте (например, в арбитражном суде) сообщение о своей несостоятельности (банкротстве), которое не соответствует действительности. У должника присутствуют признаки платежеспособности и возможности удовлетворить требования кредиторов».
Что касается другой оценочной категории «крупный ущерб» законодателем также не предусмотрено определение в статье 197 УК РФ, ни в форме примечания, ни в форме разъяснения в постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации. Казалось бы, данное оценочное понятие нуждается в разъяснении, однако толкование законодателем уже дано в статье 170.2 УК РФ следующим образом: «…крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — девять миллионов рублей».
Помимо вышеназванных трудностей, возникающих в связи отсутствием закрепленных дефиниций, существуют и другие сложности, возникающие в практике применения статьи 197 УК РФ.
Говоря о деянии, предусмотренном статьей 197 УК РФ необходимо выделить то, что данное деяние выражено в форме действия, а именно проявляется в ложном публичном объявлении о несостоятельности, а кроме того, в последовательном причинении крупного ущерба. Ввиду этого, можно говорить о том, что исключение из этой цепочки одного элемента будет свидетельствовать об отсутствии причинной связи. Таким образом, должник имеет возможность предоставить суду документы, которые будут подтверждать факт того, что требования кредиторов в полном объеме удовлетворить невозможно. Нужно отметить, что сама подача подобного заявления в суд не может рассматриваться как общественно опасное деяние, которое бы отражало объективную сторону ст. 197 УК РФ. Нельзя отходить от заложенной законодателем мысли о том, какие именно преступные действия криминализированы данной статьей. Неверное толкование указанной правовой нормы часто провоцирует появление проблем в правоприменительном процессе, ввиду того, что криминализировано было лишь ложное публичное объявление должника себя несостоятельным. Но представляется ли возможным говорить, что сама подача заявления должника в суд может составлять сторону преступления, предусмотренного статьей 197 УК РФ.
Если обратиться к законодательным актам, закрепляющим ответственность за фиктивное банкротство, то невозможно сформулировать мнение о том, что публичное объявление рассматривается только в официальных источниках. Руководствуясь вышеизложенным, можно говорить о том, что данное объявление может быть совершено и в таких источниках как средства массовой информации. Разумеется, необходимо помнить, что только арбитражный суд способен признать должника несостоятельным. Но, признание должника банкротом и объявление должника о своей несостоятельности не тождественные процессы.
Совершение преступного деяния неразрывно связывают с подачей заявления в суд, ввиду того, что ущерб может быть оценен значительно позже, то на стадии подачи заявления деяние необходимо квалифицировать как покушение на фиктивное банкротство. Такой подход не представляется возможным считать верным. Можно понимать указанный состав преступления как формальный, в связи с тем, что один из квалифицирующих признаков ст. 197 УК РФ — это заведомость, следовательно уже на стадии подачи заявления в арбитражный суд (или любого другого публичного объявления себя банкротом) лицо знало, сознательно допускало общественно опасных последствий
Если обратиться к цели рассматриваемого преступного посягательства, то можно выявить характер действий субъекта. Первая редакция ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривала возможность должника признать себя несостоятельным, не прибегая к судебному порядку. Именно по этой причине в УК РФ была закреплена норма права, предусматривающая ответственность за фиктивное банкротство, чтобы должники не использовали положения закона в целях реализации своего преступного умысла. Но, более ранняя редакция статьи 197 УК РФ прямо закрепляла цель, а именно введение в заблуждение кредиторов для получения отсрочки платежей, иных льгот с долгов, а также неуплата долгов (заведомо ложное объявление о несостоятельности, например, для прощения долга). Такая цель достаточным образом отражает характер преступного деяния и позволяет разграничить его со схожим с ним преднамеренным банкротством, где целью является создание реальных признаков банкротства. В существующей на сегодняшний день редакции статьи 197 УК РФ не предусмотрено указание на цель, что позволяет говорить о том, что исчезает такой ключевой признак преступления как общественная опасность.
Также необходимо обратиться к такой актуальной проблеме как взаимодействие органов дознания и предварительного следствия с арбитражными судами, в связи с выявлением признаков состава преступления, предусмотренных в статье 197 УК РФ.
12 ноября 2019 года в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации (далее по тексту — АПК РФ) статью 188.1 [8] законодатель дополнил частью 4, согласно которой при выявлении судом признаков преступления, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, копия частного определения о выявленном составе преступления направляется в орган дознания или предварительного следствия.
Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона от 12.11.2019 № 374-ФЗ «Статьей 2 АПК РФ определены задачи судопроизводства в арбитражных судах, к числу которых, в частности, отнесены укрепление законности, предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, формирование уважительного отношения к закону и суду. Вместе с тем отсутствие в АПК РФ нормы, регламентирующей действия арбитражных судов в случае обнаружения ими признаков преступлений в действиях лиц, участвующих в судебном разбирательстве, делает невозможным выполнение указанных задач арбитражного судопроизводства в полном объеме» [9].
Таким образом, сущность внесения дополнения в АПК РФ обусловлена задачами судопроизводства. Однако законодатель не предусмотрел категории арбитражных дел, на которых следует особенно обратить внимание при выявлении признаков состава преступления, к примеру, составы преднамеренного и фиктивного банкротства, которые требуют пристального наблюдения со стороны правоприменителя.
Законодатель также не учел способы контроля над соблюдением части 4 статьи 188.1 АПК РФ, каким образом органы дознания и предварительного следствия или иные государственные органы смогут выявить не добросовестный подход к реализации данной нормы.
В решении сложившихся проблем судам следует опираться на свое правосознание, а также на разъяснение Постановлений Пленума Верховного суда Российской Федерации, кроме того, законодателю следует уточнить категории дел, относительно которых следует давать дополнительное заключение о выявлении признаков составов преступлений в форме частных определений, также необходимо разработать эффективную систему взаимодействия арбитражных судов и органов дознания, предварительного следствия.
В заключении необходимо отметить важность выявленных проблем, толкование оценочных категорий «заведомо ложное публичное объявление», «крупный ущерб» необходимо для более правильного, единообразного применения законодательства, для формирования точного судебного языка в вынесении и написании обвинительных или оправдательных приговоров и иных судебных актов. Представляется возможным говорить о том, что в настоящий момент статья 197 УК РФ является малоэффективной и «нерабочей», реальное действие рассматриваемой правовой нормы возможно лишь при ее совершенствовании в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также четкого определения, закрепленных в ней понятий. Кроме того, в целях достижения эффективных задач судопроизводства необходимо решить проблему взаимодействия органов дознания и предварительного следствия с арбитражными судами.
Проблемы толкования объективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ
Дата публикации: 05.12.2016 2016-12-05
Статья просмотрена: 1039 раз
Библиографическое описание:
Кротких, С. А. Проблемы толкования объективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ / С. А. Кротких. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 26 (130). — С. 471-474. — URL: https://moluch.ru/archive/130/36027/ (дата обращения: 24.05.2021).
Убийство матерью своего новорожденного ребенка, это преступление является тяжелейшим. Невинное, незащищенное маленькое существо, которому необходима забота, существующее, так или иначе, от легких и ветреных действий «убийцы», страдает лишь из-за глупости, минутной слабости, непродуманности будущих последствий сегодняшней матери, которая, в свое время поступила опрометчиво, не задумываясь о последствиях, и эгоистично.
Теоретическая и практическая актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что вопрос определения «новорожденности» ребенка является дискуссионным, как в научном определении, так и в практическом применении следственной и судебной практики. Существуют разногласия по поводу того, как определить тот самый период времени, в котором ребенок считается новорожденным, время, момент, с которого его следует считать новорожденным, и в целом, что означает понятие «новорожденный», поскольку существует четкие и конкретные понятия, но параллельно и множество подводных камней в регулируемом вопросе, которые требуют особого внимания.
Убийство матерью новорожденного ребенка зафиксировано в статье 106 Уголовного кодекса РФ и законодатель приводит такую формулировку данного преступления — «Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости».
Ребенок, его жизнь, как объект преступного посягательства, по наибольшим точкам зрения, является новорожденным с момента рождения и до момента, пока организм ребенка не адаптируется к обычным условиям внешней среды. Этот период длится в среднем от 28 до 30 дней. Профессор С.В. Бородин полагал невозможным установление заранее определенного срока, когда ребенок считается новорожденным, и писал о необходимости установления его в каждом конкретном случае [1, с. 174]. В данном случае можно говорить лишь об одном потерпевшем, как указывает нам статья 106 УК РФ. Представляется, что последовательное лишение жизни новорожденных детей от разных беременностей должно образовывать реальную совокупность преступлений, в то время, как убийство женщиной двух или более новорожденных детей при едином умысле на лишение их жизни рассматривается, как одно преступление. Касаемо фразы «убийство сразу или после родов» предполагает, что лишение жизни ребенка происходит с момента появления какой-либо части тела вне утробы матери и до окончания раннего послеродового периода, который, как часто описывается, длится около 2-4 часов после окончания, непосредственно, родов, при этом окончанием родов следует признать время рождения плаценты. Что касается науки, то данный вопрос является достаточно спорным. Как видно из данной нормы — выход за пределы данного времени не является препятствием для квалификации содеянного по исследуемой статье уголовного кодекса. В науке этот вопрос считается спорным. Профессор Э.Ф. Побегайло устанавливает длительность периода «сразу после родов» в одни сутки [2, c. 239]. Профессор С.В. Бородин, свою очередь, считает, что это период до первого кормления матерью своего новорожденного ребенка или же в период отделения ребенка от тела матери и его первого самостоятельного вздоха или сразу после родов, в медицине таким периодом признаются сутки с момента появления ребенка [3].
Если исходить из буквального толкования закона, то психическое состояние матери не имеет никакого значения для квалификации, если она совершает это убийство во время или же сразу после родов. Убийство же при психотравмирующей ситуации предполагает, что оно происходит при особых обстоятельствах в жизни женщины, которые изменяют к худшему ее психоэмоциональное состояние.
В.М. Лебедев, комментируя статью 106 понимает «убийство во время или сразу же после родов» буквально, что на мой взгляд является вполне логичным, исходя из буквы закона, но касаемо психотравмирующей ситуации, также ограничивается месяцем.
По утверждению М.А. Махмудовой, жизнь рождающегося ребенка, который не подпадает под медицинские определения новорожденности, выпадает из-под уголовно-правовой охраны, и намеренное умерщвление ребенка во время его рождения фактически не может признаваться убийством и может квалифицироваться как прерывание беременности [5, с. 31]. Наше законодательство в какой-то мере основывается на идее, которая высказана А.А. Пионтковским — «Гранью между абортом и убийством является начало родовых схваток, умерщвление ребенка в этот момент уже должно считаться убийством» [6, с. 154]. Данная точка зрения скорее подтверждает позицию авторов, которые связывают начало жизни человека с самим процессом рождения. С медицинской точки зрения период родов — это длительный физиологический процесс, который по своей продолжительности не совпадает с процессом рождения ребенка. Согласно медицинским критериям первый период родов называется периодом раскрытия, и связан он с началом родовой деятельности (начало родовых схваток). Второй период родов — период изгнания, который начинается с момента полного раскрытия маточного зева и заканчивается рождением плода (перерезается пуповина, и ребенок полностью отделяется от матери). Третий период — последовый, который начинается с момента рождения и завершается рождением последа (плаценты, плодных оболочек и пуповины) [7, с. 103]. В медицине роды (родовой акт) определяются как «физиологический процесс изгнания плода, плаценты с плодными оболочками и околоплодными водами из матки через родовые пути после достижения плодом жизнеспособности» [8, с. 274].
В судебной медицине период новорожденности определен одними сутками. В медицине жизнеспособным является ребенок, который способен продолжать самостоятельную жизнь без организма матери.
Приказом-постановлением Минздрава РФ и Госкомстата РФ от 4 декабря 1992 г. N 318/190 «О переходе на рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения критерии живорождения и мертворождения» утверждена Инструкция «Об определении живорождения, мертворождения перинатального периода». Согласно ей, живорождением является полное изгнание или извлечение плода из организма матери вне зависимости от продолжительности беременности, причем плод после такого отделения дышит или проявляет другие признаки жизни: ощущается сердцебиение, пульсация пуповины или произвольное движение мускулатуры, независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента. В приложении N 4 к данному Приказу-постановлению определены особенности вскрытия трупов плодов и новорожденных. Из этого следует, что медицинские критерии, которые зачастую неотделимы от правоприменительной деятельности при квалификации преступлений, посягающих на жизнь, четко разграничивают плод от уже родившегося человека.
Новорожденный — плод (продукт зачатия), достигший жизнеспособности, т. е. при массе тела 1000 г и более (или, если масса при рождении неизвестна, при длине тела 35 см и более или сроке беременности 28 недель и более).
Из логики некоторых вышеупомянутых ученых можно сделать вывод о том, что ребенка можно считать человеком, на жизнь которого посягает мать с момента его рождения, но рождающийся ребенок не является рожденным, а значит — не обретает полного статуса «человека». Исходя, ко всему прочему и из названия нормы можно увидеть, что речь идет именно о «новорожденном». Ребенок есть человек, за убийство которого существует ответственность по статье 106 УК РФ, как уже известно. Возникает весьма логичный вопрос о том, в какой момент ребенок становится человеком? В чем разница между «существом» во время начала схваток (начала родов) или начала рождения, которое законодатель привязывает к возникновению будущего потерпевшего и существом, к примеру за месяц, неделю, час, 30 минут до наступления этого момента? В этом плане разница между рождающимся и «плодом» не велика, в плане времени, но одного считают плодом и наказания за его убийство нет, а другой находится под иной категорией. Это является неправильной формулировкой на наш взгляд, поэтому если законодатель ставит в статус потерпевшего еще не родившегося ребенка, значит имеет место изучить возраст плода, в котором он будет считаться «человеком» и его умерщвление будет также подпадать под данную статью, а иначе квалификация является неправильно, как минимум с точки зрения морали и нравственности.
Понятие «сразу же после родов», выделенное в диспозиции ст.106, имеет четкое медицинское определение. Это — краткий промежуток времени после выделения плаценты (детского места). Время до выделения плаценты после рождения ребенка определяется как роды [9, ст. 17].
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что вопросы объективной стороны, квалификации данного деяния не достаточно исследованы и не выработано единое мнение, которое в полной мере раскрывало бы сущность данного преступления, придавая свой лишь ему окрас. Объектом преступного посягательства является жизнь новорожденного ребенка. Объективная сторона заключается в действиях или бездействиях, главная суть которых заключается в том, что они направлены на умышленное причинение смерти. Квалифицировать деяние по данной статье можно лишь до определенного срока, который всеми авторами, в среднем, определен, как месяц, при соблюдении определенных критериев, указанных выше. Также можно выделить различные критерии промежутков времени, в течении которых ребенка считают новорожденным.
Акушерский критерий говорит нам о том, что ребенок является новорожденным в течении одной недели с момента родов. В педиатрии есть свое мнение по этому поводу, которое гласит- «ребенок как новорожденный нуждается в наблюдении и помощи со стороны медицинского учреждения в течение 3-4 недель после родов». Судебно- медицинский критерий гласит, что новорожденным считается ребенок, у которого не исчезли признаки плода (наружные: наличие пуповины; сыровидная смазка; следы крови на коже при отсутствии ее повреждения; внутренние: родовая опухоль, меконий в толстых кишках). Судебно-медицинский критерий также используется в узкопрофессиональных целях идентификации биологического организма. Перечисленные биологические признаки новорожденности, согласно судебно-медицинскому критерию, сохраняются в течение одних суток.
Судебно-медицинские характеристики новорожденного ребенка на данный момент времени являются альтернативными. В этом случае, ребенок считается новорожденным в течение 168 часов (семь суток) после рождения, независимо от наличия у него признаков плода.
Таким образом, актуальной остается проблема определения периодов новорожденности и, как нам кажется — единого толкования термина «новорожденный», для полной, логичной и обоснованной квалификации преступлений по данной статье — нет. Объектом преступного посягательства является жизнь новорожденного ребенка. Объективная сторона заключается в действиях или бездействиях, главная суть которых в том, что они направлены на умышленное причинение смерти. Квалифицировать деяние по данной статье можно лишь до определенного срока, который всеми авторами, в среднем, определен, как месяц, при соблюдении определенных критериев, указанных выше. Также можно выделить различные критерии промежутков времени, в течение которых ребенка считают новорожденным.
Изучив некоторые вопросы в этой сфере, проанализировав мнения различных ученых и практиков в данной области, считаем необходимым внести изменения в ст. 106 УК РФ, а именно:
– Предлагается внести изменения в статью 106 УК РФ, исключив при этом оговорку «во время родов» из существующей нормы УК РФ, поскольку существует множество проблем при квалификации данного деяния. Согласно ч.2 ст. 17 и ч.1 ст. 20 Конституции РФ право на жизнь принадлежит каждому от рождения, а в соответствии с ч. 2 ст. 17 ГК РФ правоспособность гражданина возникает в момент его рождения.
Кроме того, существует различные позиции о том, с какого момента начинаются роды в оговорке «во время родов». С периода начала первых схваток, или же с выхода одной из частей тела ребенка. Возникают проблемы морали и нравственности, поскольку одно и то же «существо» в очень небольшой промежуток времени имеет разные права, точнее разница именно в наличии данных прав, а именно самого важного — права на жизнь. Необходимо также обратить внимание на название статьи. Ребенок является новорожденным, то есть из логики данного термина — он рожден, а значит, не может находиться на стадии рождения, которая предусматривается оговоркой — «во время родов».
Предложенное решение существующих проблем помогло бы разрешить множество вопросов, существующих у ученых на сегодняшний день и выработать общее мнение. По нашим доводам, в этом случае норма обрела бы максимальный смысл и облегчила бы работу судов на практике, путем избавления от лишних вопросов.