Мотив сна в произведениях достоевского
Сайт Михаила Кожаева
Одна жизнь — тысяча возможностей
Достоевский и сны
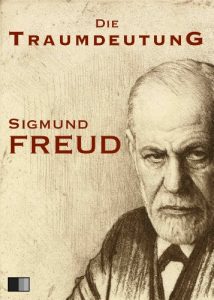
Все мы ещё из школьной программы помним сон Раскольникова о кляче, которую забивает до смерти мужик Миколка (5, 50 – 55). Он впрягает тощую савраску в огромную телегу, на которой обычно перевозят винные бочки и которую она явно не способна потянуть по слабости и старости. Ведь в телегу Миколка сажает всех, кто гуляет с ним на празднике в кабаке, – человек семь или даже больше. В итоге разгневанный хозяин убивает лошадку ударами оглобли и лома.
«– Моё добро! – кричит Миколка, с ломом в руках и с налитыми кровью глазами. Он стоит будто жалея, что уж некого больше бить.
– Ну и впрямь, знать, креста на тебе нет! – кричат из толпы уже многие голоса».
Раскольникову этот сон напомнил, какое страшное преступление он готовит:
««Боже! – воскликнул он, – да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп… буду скользить по липкой, тёплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью… с топором… Господи, неужели?»».
Сны в произведениях Достоевского выступают актуализаторами происходящих событий, они рельефно оттеняют мысли и чувства героев, позволяют придать глубину проекции, измерения их мироощущения. Впрочем, чрезвычайно часто Фёдор Михайлович просто делает лирические отступления, посвящённые феноменальности снов, их необычности, их особенности в сравнении с нашим обыденным миром. В снах, указывает писатель, присутствует особая логика, внутренне непротиворечивая, гармоничная, но по пробуждении вызывающая немалое удивление. В качестве иллюстрации приведём рассуждение автора в «Идиоте»:
Подобное удивление по поводу специфичной логики сновидения и его подчас мистической природы содержится в рассказе, в названии которого упоминается сон, – во «Сне смешного человека»:
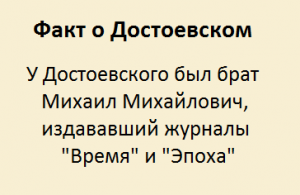
О необычном, иноприродном характере сновидений высказывается даже чёрт в «Братьях Карамазовых»:
«В снах, и особенно в кошмарах, ну, там от расстройства желудка или чего-нибудь, иногда видит человек такие художественные сны, такую сложную и реальную действительность, такие события или даже целый мир событий, связанный такою интригой с такими неожиданными подробностями, начиная с высших ваших проявлений до последней пуговицы на манишке, что, клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит, а между тем видят такие сны иной раз вовсе не сочинители, совсем самые заурядные люди, чиновники, фельетонисты, попы… Насчёт этого даже целая задача: один министр так даже мне сам признавался, что все лучшие идеи его приходят к нему, когда он спит» (12, 152).
Загадочность снов, их особая атмосфера, сюжетная непредсказуемость – эти и многие другие особенности сновидений чрезвычайно занимают Достоевского. Рассуждениям на эту тему он посвящает как отдельные отступления в диалогах или авторских отступлениях, так и целые произведения. Важнейшим из таковых является упомянутый «Сон смешного человека», в котором под видом сна спрятана идеология сродни той, что встречается в легенде о великом инквизиторе.
Позволю озвучить предположение, что, по Достоевскому, социальная гармония наступит тогда, когда мы начнём жить так же искренне (даже когда лжём), как в наших снах. В идеях Фёдора Михайловича угадывается одна, согласно которой жизнь преобразится – достаточно лишь претворить сон в действительность. В основополагающих чертах сновидения – ощущения близости Бога и высшей реальности, любви без посредства слов, истинного всепрощения. Одним словом, если всё это «вспомнить» в нашей повседневной жизни – такая идиллия начнётся, что и «Лев Толстой не сочинит».
И раз уж мы упомянули современника и номинального товарища Достоевского по писательскому цеху, то пришло время поговорить об отношении Фёдора Михайловича к некоторым из них. Начать, без сомнений, нужно с Поль де Кока – настолько часто Достоевский упоминает его не в самом лучшем свете, а мы о нём так мало сегодня знаем…
Роль сновидения в произведениях Ф.М. Достоевского
Роль сновидения в произведениях Ф.М. Достоевского
ученица 11 «Э» класса
Сыроватко Лада Викторовна
Список использованной литературы стр. 16
Изучение богатейшего материала литературных снов с точки зрения философии, эстетики, культурологи, психоанализа – это проблемы до настоящего времени глубоко и всесторонне не исследованные в русской науке.
Не существует, на мой взгляд, ни одного сколько-нибудь самобытного достойного внимания литератора, который не использовал бы в своих произведениях художественный прием сновидения. Для усиления фантастического, мистического, сатирического эффекта, либо с целью достижения психологической достоверности поведения героя, его духовного формирования.
Форма литературного сна благодаря своим исключительно богатым идейно-эстетическим художественным возможностям оказалась необычайно плодотворной. Большинству знаменитых героев русской словесности являются по ходу развития того или иного сюжета загадочные, таинственные, необычайные, фантастические сновидения существенно дополняющие, а порой и определяющие социальный облик персонажей.
Некоторые герои (Раскольников, Свидригайлов, Анна Каренина, Пьер Безухов, Андрей Болконский) переживают по мере развития действия целые своеобразные циклы странных, сложных по своей символике событий и ситуаций, снов.
Важнейшую роль здесь играет прежде всего интуиция самого автора, без активного творческого содействия которой было бы невозможно представить какое именно сновидение и почему в тот или иной момент развития сюжета могло присниться Свидригайлову, Петруше Гриневу или Ольге Ильинской.
З.Фрейд открыл, что за покрывалом сознания скрыт глубинный пласт неосознанных личностью могущественных стремлений, влечений и желаний, находящих свое воплощение в сновидениях, свободных от контроля сознания. Его работы осветили основные вопросы устройства внутреннего мира личности, и побуждений причины душевных надломов, фантастическое представление человека о себе и окружающих. И теория З.Фрейда удивительно переплелась с работами другого великого психолога и гениального писателя XIX столетия Ф. М. Достоевского.
В своих произведениях он рассматривает целые социальные пласты, выявляет проблемы и пороки общества. Достоевский своим изумительным чутьем угадывает все болезни времени, болезни человеческой личности и рассматривает их изнутри, глазами самих созданных им героев.
Будучи художником трех ипостасей: человеческой, художественной и духовной, Федор Михайлович вкладывает огромный, глубинный смысл в каждый из снов своих героев.
Говоря о роли снов в творчестве Ф.М. Достоевского нельзя не упомянуть рассказ «Сон смешного человека», представляющий собой весь мыслительный, идейный и фантастический мир автора, его «Евангелие» в миниатюре. В этом произведении собраны нити всех больших романов Достоевского. Князь Мышкин в «Идиоте» близок к целостности жизни, он обладает той искренностью, которую мы узнаем в людях на планете смешного человека; Версилов в «Подростке» мечтает о «золотом веке», где люди пребывают в таком же состоянии рая; старик Зосима в «Братьях Карамазовых» проповедует ту же истину, что и смешной человек; жизнь – это рай, если бы мы только осознали это, то сразу и очутились бы в раю. Идея мечты о « золотом веке» плавно перекочевала в сон еще одного героя Достоевского Ивана Карамазова («Братья Карамазовы». Знаменитая девятая глава «Черт. Кошмар Ивана Федоровича».) Сам Федор Михайлович этим эпизодом явно дорожил. Впоследствии он введет слова черта в формулу собственного миросозерцания («Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений, моя осанна прошла, как говорит у меня в романе черт».) Боль, заботы, мечты о человеческом счастье в сознании Ивана самоценны. Дискредитирует их дьявол. «Сопротивление черту – свидетельство того, что душа в главном не подчинена злу. Сам же дьявол наделен в романе двойным бытием. Он одновременно и порождение сознания героя, и самостоятельная сущность. Писатель «угадал» иррациональный момент становления зла: он проникает в земной мир через душу человека, через его сны…»
Сны и видения Родиона Раскольникова составляют своего рода повесть его духовной жизни, развертывающуюся в связях снов с проходящими наяву эпизодами романа. Их всего пять, и если рассматривать сны в контексте композиции произведения, то можно составить следующий план:
Активно вмешивается, сострадает
2. Грезы о том, что он в Африке, Египте?
3. Сон о том, как бьют хозяйку
Наблюдает, боится, прячется
4. Сон о старухе которую убивает и не может убить
После первого разговора с Порфирием Петровичем
Все сны связаны между собой единой сюжетной линией. Перед нами разворачивается картина развенчания идеи Родиона Раскольникова. От сострадания – к убийству – к мировой катастрофе. Постепенно в герое происходит переоценка не только психических, но и общечеловеческих ценностей. Благодаря такому психологическому приему, использованному Достоевским, становится понятно, что речь идет о духовной борьбе, подобно язве поразившей сознание Раскольникова и породившей Идею, которая заполнила все его существование.
Первый сон Раскольникова – сон о забитой насмерть лошади, от которой хозяин хочет добиться непосильного и невозможного для неё, запрягая её в воз, наполненный пьяным народом, который ей не свезти. Теснейшая связь эпизодов текста, где все подхвачено чем-то, все в чем-то отразилось, позволяет применить к «Преступлению и наказанию» многоуровневое истолкование.
Для Раскольникова, как для личности трагической мироориентации весь мир, пространство мира поделено на части, на два ряда противостоящих друг другу ценностей, на два пространства: пространство церкви и пространство кабака. Еще раз обратимся к тексту: «Местность совершенно такая же, как уцелела в его памяти: даже в памяти его она гораздо больше изгладилась, чем представлялась теперь во сне. Городок стоит открыто, как на ладони, кругом ни ветлы; где-то очень далеко, на самом краю неба, чернеется лесок. В нескольких шагах от последнего городского огорода стоит кабак, большой кабак, всегда производивший на него неприятнейшее впечатление и даже страх, когда он проходил мимо него, гуляя с отцом. Там всегда была такая толпа, так орали, хохотали, ругались, так безобразно и сипло пели и так часто дрались. Кругом кабака шлялись всегда такие пьяные и страшные рожи… встречаясь с ними, он тесно прижимался к отцу и весь дрожал. Возле кабака дорога, проселок, всегда пыльная, и пыль на ней всегда черная. Идет она, извивается, далее и в шагах в трехстах огибает вправо городское кладбище. Среди кладбища каменная церковь с зеленным куполом, в которую он два раза в год ходил с отцом или матерью к обедне, когда служили панихиды по его бабушке. Он любил эту церковь и старинные в ней образа, большею частию без окладов, и старого священника с дрожащею головой. Ребенок любит церковь и ненавидит кабак, его пугают «пьяные и страшные рожи», спасение от которых он пытается найти у отца (Бога), но дорога к церкви лежит мимо кабака. Раскольников должен выбирать ибо не знает, оба эти ряда ценностей включены в целое мира, а не противопоставлены друг другу.
Он любит храм, но его отец, ведущий его в церковь, его Бог, бессилен перед бушующей толпой, бессилен остановить убийство лошадки. Видя немощность своего Бога, Раскольников присоединяется к кабаку.
В сущности, перед нами описание того, что претерпевает душа, её истязание. На мой взгляд, одним из наиболее ярких образов этого сна и снов вообще, на протяжении всего романа «Преступление и наказание», является лестница. В грезах героя каждый пролет лестницы – особое мытарство. Посвященное определенному греху, и в системе романа соответствие «этажей» греха и истязания остро соблюдено: на четвертом этаже находится квартира хозяйки Раскольникова, на четвертом – квартира убитой Алены Ивановны. Лестница, по которой восходят разлучившиеся с телом души, для того, чтобы предстать перед Богом.
«Таким образом, смех, юмор гармонизирует разорванную трагическим сознанием действительность, требуя от каждой ценности принять свою относительную «цену» в ряду других и не претендовать на абсолютную «цену» и значение.» 10
В этом сне получает развитие и образ лестницы, продолжающий мотив самозванства, развенчанного на вершине лестницы на виду у площади, разоблачение неправедно поднявшегося к вершине.
Анализируя этот сон, я не могла не отметить очень интересную деталь.
Старуха и Лизавета- сестры, но у них противоположные характеры: одна- мнительная и корыстолюбивая, другая- доверчивая и кроткая. Эти персонажи живут в одной квартире, Свидригайлов и Соня- тоже противоположности: Свидригайлов приносит женщин себе в жертву, а Соня отдает свое тело в жертву мужчинам и этим содержит свою семью. Эти два персонажа тоже живут в одном доме «об стену» друг с другом.
При убийстве дверь квартиры старухи была открыта, что вызвало второе убийство – Лизаветы. Признание же Раскольникова Соне через стену подслушивает Свидригайлов. Признание одному лицу сопровождается неумышленным признанием другому. Здесь мы видим, что убийство и исповедь были совершены в местах, где живут пары противоположных лиц,и поступки, нацеленные только на одного из каждой пары, «нечаянно» распространяются и на другого.
Интересно и то, что члены второй пары имеют преемственную связь с членами первой пары. Ясно, что Соня- преемница Лизаветы: они обменялись крестами, и одна дала другой Новый Завет. Интересна же взаимосвязь Свидригайлова и старухи. Во время убийства в квартире старухи летала муха, потом, когда Раскольников уверяет себя в том, что никто не видел его преступление, он вспоминает о мухе: « Муха летала, она видела!» После этого, когда Раскольникову снилось повторное убийство, при котором старуха не умирает после удара топором, а во сне летала муха, и здесь же сидит Свидригайлов. Муха – своеобразный свидетель убийства, связующее звено между старухой и Свидригайловым. Весьма логично, что Свидригайлов позже узнает тайну убийства. Таким образом, Лизавета и Соня связаны крестами и Новым Заветом, а старуха и Свидригайлов связаны мухой – существом, в котором можно увидеть намек на дьявола. 6
Таким образом, каторжные сны Раскольникова – это не только самоотрицание его теории; не только обнаружения чувства личной вины за все состояние мировой жизни. В снах отчетливо просматриваются контуры новой, трагической концепции всемирной истории – концепции исторического развития через всеобщую катастрофу. Борис Тихомиров в своей статье «К осмыслению глубинной перспективы романа «Преступление и наказание»» считает исключительно важным, что мотив «всемирной катастрофы» и мотив «избранных», спасающих «род людей» сведены вместе, сосуществуют в единой картине сновидений героя: готовность признать себя виновным за ход мировой жизни и готовность к спасительному подвигу самоочищения зарождаются в душе Раскольникова синхронно. Само осуждение оказывается спасительным для героя только на путях обретения нового смысла жизни, жажда подвига рождается в глубинах переживания героя.
Сон, по Достоевскому, тем и замечателен, что в нем, как и «по ту сторону» действительности, начисто отсутствуют привычные нам формы логических умопостроений. Индивидуальная, особая черта в творчестве Федора Михайловича отсутствие грани между сном и действительностью, может быть даже между бытием и небытием. Сначала видение больной призрак воображения, потом реально действующее лицо- грань исчезает, и ее точно не чувствует автор (например появление Свидригайлова «Преступление и наказание»). Нередка манера рассказывать от чьего-то лица, как бы участника событий, но в то же время не играющего в них значительные роли. Бледная, точно призрачная фигура – она всюду присутствует, она все видит и все знает, но сама остается за кулисами.
Есть объективные свидетельства, что Достоевскому была присуща способность размежевывать в сновидениях «я» переживающее и «я» наблюдающее. Н.Н. Страхов в своих воспоминаниях говорит о Достоевском: «С чрезвычайной ясностью в нем обнаруживалось особенного рода раздвоение, состоящее в том, что человек предается очень живо известным мыслям и чувствам, но сохраняет в душе неподдающуюся и неколеблющуюся точку, с которой смотрит на самого себя, на свои мысли и чувства». Да и сам Достоевский хорошо знал в себе эту черту, ведь именно он писал следующие строки: «Что Вы пишите о вашей двойственности? Но это самая обыкновенная черта у людей…не совсем, впрочем, обыкновенных. Черта, свойственная человеческой природе вообще, но далеко-далеко не во всякой природе человеческой встречающаяся в такой силе, как у Вас. Вот и поэтому Вы мне родная, потому, что это раздвоение в Вас точь-в-точь как и во мне, и всю жизнь во мне было. Это большая мука, но в то же время и большое наслаждении».
Наличность этой черты подтверждается и произведениями Достоевского. У него странная страсть к изображению расщепленности сознания: его герои постоянно видят со стороны, мучительно, но и наслаждаясь этой мучительностью, переживают свое двойное бытие. На эту особенность творчества Достоевского неоднократно уже обращал внимание Вячесла Иванов, например, в своей известной статье «Достоевский и роман-трагедия» писал: «Оставив внешнего человека в себе жить, как ему живется, он предался умножению своих двойников под многоликими масками своего отныне уже не связанного с определенным ликом, но вселикого, всечеловеческого я».
Список использованной литературы
Т. А. Касаткина «Воскрешение Лазаря: опыт экзегетического прочтения романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»» http://magazines.russ.ru/authors/k/tkasatkina/
Б. Тихомиров «К осмыслению глубинной перспективы романа «Преступление и наказание»»
Ф. М. Достоевский «Сон смешного человека. Фантастический рассказ» //Ф.М. Достоевский Собрание сочинений в десяти томах. Том десятый – Государственное издательство художественной литературы Москва 1958 г.
Ф. М. Достоевский «Господин Прохарчин. Рассказ» //Ф.М. Достоевский Собрание сочинений в десяти томах. Том первый – Государственное издательство художественной литературы Москва 1958 г.
Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» //Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» – Советская Россия Москва 1988 г.
Синъя Кори ««Овнешнение» внутреннего героя в «Преступлении и наказании»» //«Достоевский и мировая культура»1997 Альманах № 8
Т. А. Касаткина « Об одном свойстве эпилогов пяти великих романов Достоевского» //«Достоевский и мировая культура» 1995 Альманах № 5
П. Воге «Люцифер Достоевского» о рассказе «Сон смешного человека» //«Достоевский и мировая культура» 1999 Альманах № 13
Н. В. Чернова «Сон господина Прохарчина. Фантастичность реальности». //«Достоевский и мировая культура» 1996 Альманах № 6
Т. А. Касаткина «Категория пространства в восприятии личности трагической мироориентации» //«Достоевский. Материалы и исследования» 1994 № 11
Р. Н. Поддубная «Двойничество и самозванство» //«Достоевский. Материалы и исследования» 1994 № 11
Сон как метод отражения и постижения действительности в творчестве Ф.М. Достоевского
Министерство общего профессионального образования свердловской области.
Управление образования Администрации Кировского района
Сон как способ отражения и постижения действительности в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
Реферат-исследование по литературе
1.Сон как один из несюжетных элементов художественного текста……. 8
2.Сон как одна из форм художественного видения у Достоевского………. 13
3.Иллюстрировано психологические и сюжетные сновидения в произведениях Ф. М. Достоевского. 19
4.Сон как способ отражения и постижения действительности в романе «Преступление и наказание». 24
4.2 Хронотоп сна и пространство в реальной действительности в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 33
4.4 Концепт «толпа» в сновидениях Родиона Раскольникова. 50
4.5 Особенности поэтики снов в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 59
Изучить научную литературу о роли сна для постижения и отражения действительности;
Изучить исследования ученых-литературоведов о роли сна в творчестве Достоевского;
Самостоятельно исследовать текст романа в направлении темы;
Выявить особенности творческой деятельности манеры Достоевского через собственное исследование.
Изучение научной литературы по предмету исследования и литературоведческих работ по творчеству Достоевского:
Самостоятельное исследование художественного текста в направлении темы;
Наблюдение за художественными функциями сна в романе;
Классификация снов, их описание;
5. Обобщение наблюдений.
Меня привлекает филологический анализ художественного текста Мне захотелось исследовать роль сна в романе Ф.М. Достоевского, чтобы выявить, как через этот внесюжетный элемент текста автор постигает и художественно отражает действительность.
Своеобразие Достоевского как художника в том, что он принес с собою новые формы художественного видения и поэтому сумел открыть и увидеть новые стороны человека и его жизни. Одной из таких форм является сон.
Слова «сон» и «сновидение» попадают в название трех произведений Достоевского («Дядюшкин сон», «Петербургские сновидения в стихах и прозе», «Сон смешного человека»), но герои многих его романов и повестей видят особенные сны, которые подробно описывает автор.
Сон для Достоевского не какой-то эффективный прием предсказания события, заранее известного писателю, или условное изображение уже происшедшего события. Сон у этого писателя незаменимый способ художественного познания, основанный на законах самой человеческой натуры. Через сон он ищет «в человеке человека». В снах у него и «невысказанное, будущее слово». Таким образом, сон для писателяэто не уход от действительности, а напротив, стремление постигнуть ее в ее собственных своеобразных формах, осмыслить ее художественно.
Анализ идейно-художественного содержания и художественных функций мною подробно изложены в главах «Сон как одна из форм художественного видения у Достоевского», « Иллюстративно психологические и сюжетные сновидения в произведениях Ф. М. Достоевского», «Сон как способ отражения и постижения действительности в романе «Преступление и наказание», «Типы сна в романе «Преступление и наказание», их литературные источники»
Для Достоевского-художника характерно представить развернутую, фантастически-реальную, связную картину сновидения с опорой на сюжет, детали и подробности. сновидения в произведениях писателя можно разделить на «иллюстративно-психологические и сюжетные».
Конечно, сны героев Достоевского запечатлеваются в нашей читательской памяти не менее сильно, чем явь его романов. Они подробно описаны в главе « Иллюстративно психологические и сюжетные сновидения в произведениях Ф. М. Достоевского».
«Преступление и наказание» самый насыщенный сновидениями роман Ф.М. Достоевского. Можно говорить не только о снах-новеллах, но и о цикле снов в контексте романа.
Эти сны неравномерно распределены по тексту романа. Первый и второй включены в первую часть романа. Это сны, которые Раскольников видит до убийства. Третий и четвертый сны соответственно включены во вторую и третью части романа. Рассказ о последних снах возникает в Эпилоге. Первый сон сам герой называет «страшным сном», «безобразным сном».
Он видит себя ребенком, ему семь лет. Он гуляет с отцом за городом. Душно, серо. На краю города «большой кабак». Странно, что рядом «церковь с зеленым куполом» и кладбище. Хохот, крики, драка. Пьяная толпа усаживается в телегу, и Миколка бьет лошадь. Наконец, кто-то кричит: «Топором ее, чего! Покончить с ней разом…» Мальчик бросается ее защищать, плачет, «обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее, целует ее в глаза, в губы».
Раскольников просыпается «весь в поту» и решает отказаться от убийства: «Неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп… Я ведь не вытерплю, не вытерплю!»
И в этом сне после убийства Раскольников не может руки поднять и чувствует: «страх, как лед, обложил его душу, замучил его, окоченил его». Сон приснился Раскольникову после визита в контору, куда его вызвали по жалобе хозяйки. Сон рожден и агрессией Раскольникова против хозяйки, которая в самый неожиданный момент завела тяжбу о взыскании платы за комнату. В этом сне явно присутствует остаточная энергия убийства, нет мотивов раскаяния, но максимально нарастает мотив даже не страха, а нестерпимого ощущения безграничного ужаса».
Кроваво-красный месяц этого сна ритмически перекликается и с «ярким закатом яркого красного солнца», которое Раскольников увидел накануне убийства, проходя через мост.
Это сон-катастрофа, который ставит героя перед выбором: покаяние или безумие и самоубийство.
Проведя героя через осмеяние и признание в убийстве, Достоевский заставляет Раскольникова пережить период отчуждения и долгой болезни.
Последнее, пятое сновидение Эпилога существенно отличается от предыдущих. Это не один сон, а сжатый пересказ тех снов, которые снились Раскольникову во время болезни в острожной больнице. Он называет их «бессмысленным бредом», «горячешными грезами». В этих снах нет самого Раскольникова как действующего лица. Это сны о какой-то страшной болезни, пришедшей из глубины Азии в Европу. Ее разносят «микроскопические существа», «трихины», которые обладают умом и волей и вселяются в тела людей. Мир гибнет, но спасаются несколько, которые должны «начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей».
Это сон о мировой катастрофе, конце света, сон-апокалипсис и пророческий сон, в котором, как утверждают исследователи, представлено пророчество Достоевского о мировой войне и революции.
Это один из хронотопов в его романе, а тип построения этого хронотопа чаще всего ассоциативный и часто связан с хронотопом реальной действительности, окружающей героя.
Кабак, который привиделся во сне Раскольникову, и похож на другие, и не похож. Да, поначалу он, вызывает обычное впечатление пестроты, угарной удали, но к нему примешивается сразу оттенок чего-то зловещего. «Это «кабак», всегда производивший на него (Раскольникова) неприятнейшее впечатление и даже страх, когда он проходил мимо его, гуляя с отцом.
Предощущение чего-то трагического, вызванное этим пространственным образом, усиливается еще и хронотопом дороги: «Возле кабака дорога, проселок, всегда пыльная, и пыль на ней всегда черная».
Образы пути, дороги имеют мифологические корни; они противостоят внешней стихии, хаосу. Нов контексте сна Раскольникова образ дороги представляет собой островок первозданного хаоса в мире, где царят жесткие законы повседневности. Он носит открыто зловещий характер, что поддержано еще и эпитетом «черная», является предвестником трагедии, которая вот-вот разыграется на глазах героя и читателей.
Художественная роль этого сновидения весьма значительна: оно не только психологическим мотивирует состояние взрослого Раскольникова, но и раскрывает антиномическую природу хронотопа души героя.
Ассоциативный тип построения художественного пространства помогает автору приоткрыть нам, читателям, смутное, неосознанное до конца душевное состояние героя.
Исследование хронотопа других снов описано в главе «Хронотоп сна и пространство реальной действительности в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
Особо хочется остановиться на моем самостоятельном исследовании роли концепта «толпа» в снах Раскольникова. Так, концепт один из наиболее интересных объектов исследования, так как является основой для адекватного отражения индивидуальной картины мира.
Концепт «толпа» формируется целой серией новых значений, которые я исследовала и подробно описала в главе «Концепт «толпа» в сновидениях Родиона Раскольникова».
Хочу еще обратить внимание что, Ассоциативные связи лексемы толпа, выявляемые в контексте последнего сна Раскольникова, утверждают закрепленную за этим концептом как в русской, так и в универсальной языковой картине мира отрицательную оценку.
В художественном универсуме Достоевского концепт «толпа» содержит в себе трагическое начало, тесно связываясь с представлениями о бренности бытия и беззащитности человека перед лицом метафизических сил.
Я исследовала и особенности поэтики снов и пришла к выводу, что в романе встречаются сцены, в которых нет зрительных описаний и повествование создается исключительно изображением звуков, обычно голосов участников, доносящихся словно из-за закрытого занавеса.
Перед нами звуковой ансамбль необычайной напряженности и силы. Здесь мы, читатели, вместе с автором погружаемся в первичные глубинные пласты чувствований и переживаний, где еще не ясен смысл, не подключено сознание, не определено слово, но звук, один лишь уплотненный звук выражает неистовство несдерживаемых страстей.
Своеобразную особенность изобразительности Достоевского
составляет напряженный звук. В мире персонажей этого автора мы словно попадаем в особую звуковую сферу, где прежде всего поражает звуковая интенсивность, уплотненность, напряженность звука.
Другой особенностью поэтики Достоевского является своеобразие и сила его цветового письма, заключающаяся преимущественно в психологической сложности и направленности в использовании красок.
Я об этом подробно изложила в главе «Особенности поэтики снов в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».Самостоятельно исследовав художественные функции, поэтику, хронотоп, концепт «толпа», я пришла к выводу, что Достоевский действительно мастерски владеет одним из внесюжетных элементов текста (сном), что позволяет ему, проникнув в самые глубины человеческого сознания, взглянуть на человека под другим углом художественного зрения. Несомненно, что я не исчерпала еще исследования поэтики снов в романе Достоевского хочется продолжить исследование концептов снов, архитектонику снов и т. д.
я пришла к следующим выводам.
Во-первых, Достоевский как художник интересен прежде всего тем, что он принес с собой новые формы художественного видения, и сумел открыть и увидеть новые стороны человека и его жизни.
Это писатель, который учит нас понимать жизнь в ее непрерывном развитии, обновлении и гармонии.
Тема моего проекта – «сон как метод отражения и постижения действительности в творчестве Ф.М. Достоевского. (На материале романа «Преступление и наказание»).
Меня привлекает филологический анализ художественного текста, который дает возможность постичь глубинный смысл произведения. Особый интерес вызвала у меня роль сна как одного из внесюжетных элементов художественного текста.
Сон – одно из самых загадочных физиологических состояний человека, когда он остается наедине с самим собой, глядится в судьбинское зеркало и видит в нем собственную сущность.
Разгадать сон – значит много узнать о себе, о том, как должен жить человек, чего просить у судьбы, чтобы наступило удовлетворение желаний.
Проблема сна и сновидений интересовала писателей всегда. Но сегодня, в начале 21 века, чувствуется особо пристальное внимание и ученых, и писателей к такому уникальному явлению, как сон человеческий.
Мне захотелось исследовать роль сна в романе Ф.М. Достоевского, чтобы выявить, как через этот внесюжетный элемент текста автор постигает и художественно отражает действительность.
Моя работа имеет практическую направленность и представляет интерес, как для учителей литературы, так и для учащихся, интересующихся творчеством Достоевского. Материалы моего исследования можно использовать при подготовке к урокам литературы, к семинарским занятиям по творчеству этого писателя, к занятиям на элективных курсах. Так, на материалах моего исследования вместе с научным руководителем мы разработали одно из занятий элективного курса «Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного произведения» по теме, созвучной моей. Материалы проекта можно использовать и на занятиях элективного курса по психологии (Достоевский как тонкий психолог через сон исследует движение души человека), и на уроках по МХК(эстетика Достоевского – одна из составляющих мировой эстетики второй половины 19 века).
Проблема – место и роль сна в системе других внесюжетных элементов текста для постижения и художественного отражения действительности.
Предмет исследования – сны в романе Достоевского.
Цель проекта – выявить, исследуя сны в романе Достоевского, как через них автор художественно постигает и отражает действительность.
· Изучить научную литературу о роли сна для постижения и отражения действительности;
· Изучить исследования ученых-литературоведов о роли сна в творчестве Достоевского;
· Самостоятельно исследовать текст романа в направлении темы;
· Выявить особенности творческой деятельности манеры Достоевского через собственное исследование.
· Изучение научной литературы по предмету исследования и литературоведческих работ по творчеству Достоевского:
· Самостоятельное исследование художественного текста в направлении темы;
· Наблюдение за художественными функциями сна в романе;
· Классификация снов, их описание;
Гипотеза – предположим, что Достоевский мастерски владеет одним из внесюжетных элементов текста (сном), что позволяет ему, проникнув в самые глубины человеческого сознания, взглянуть на человека под другим углом художественного зрения.


